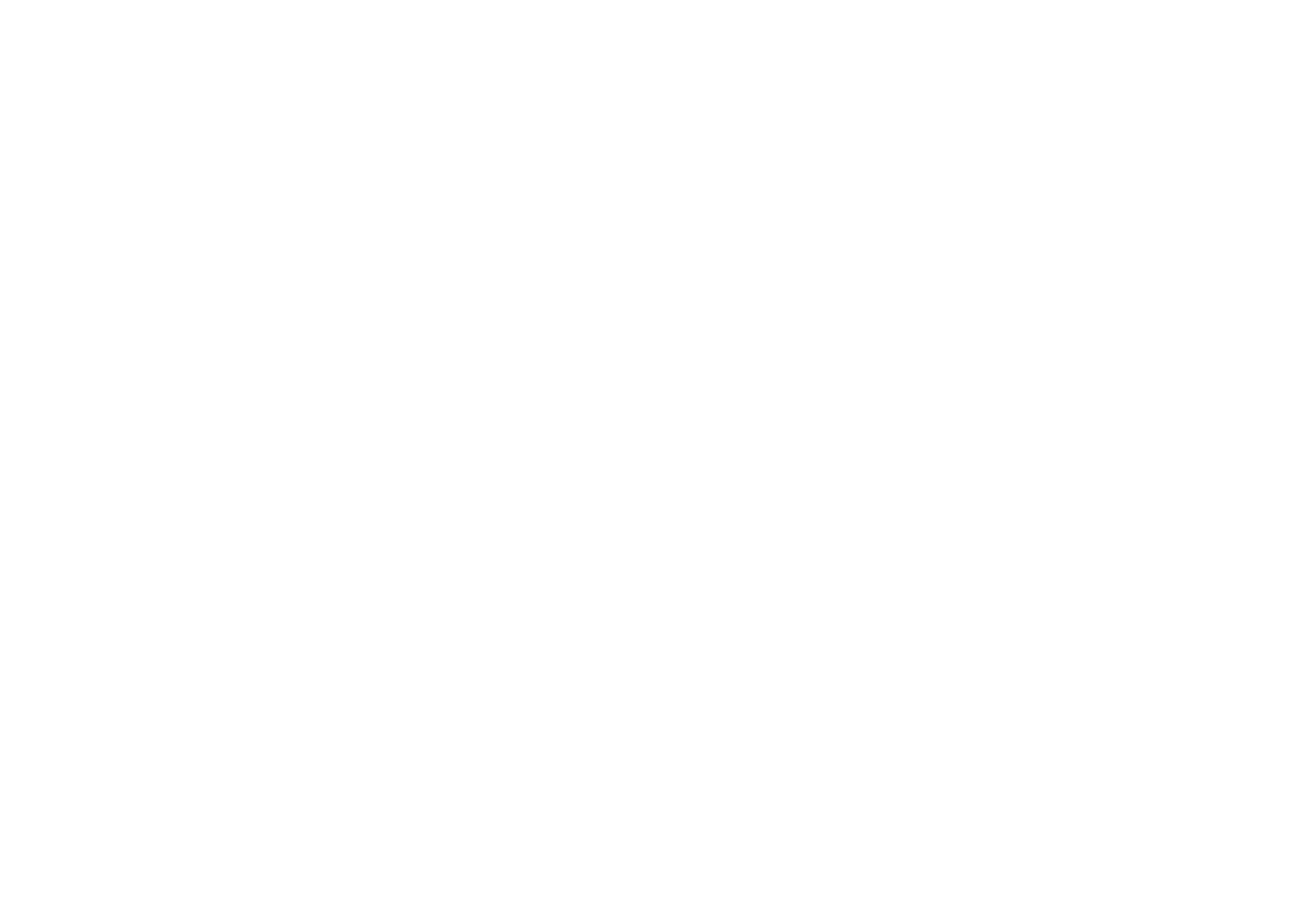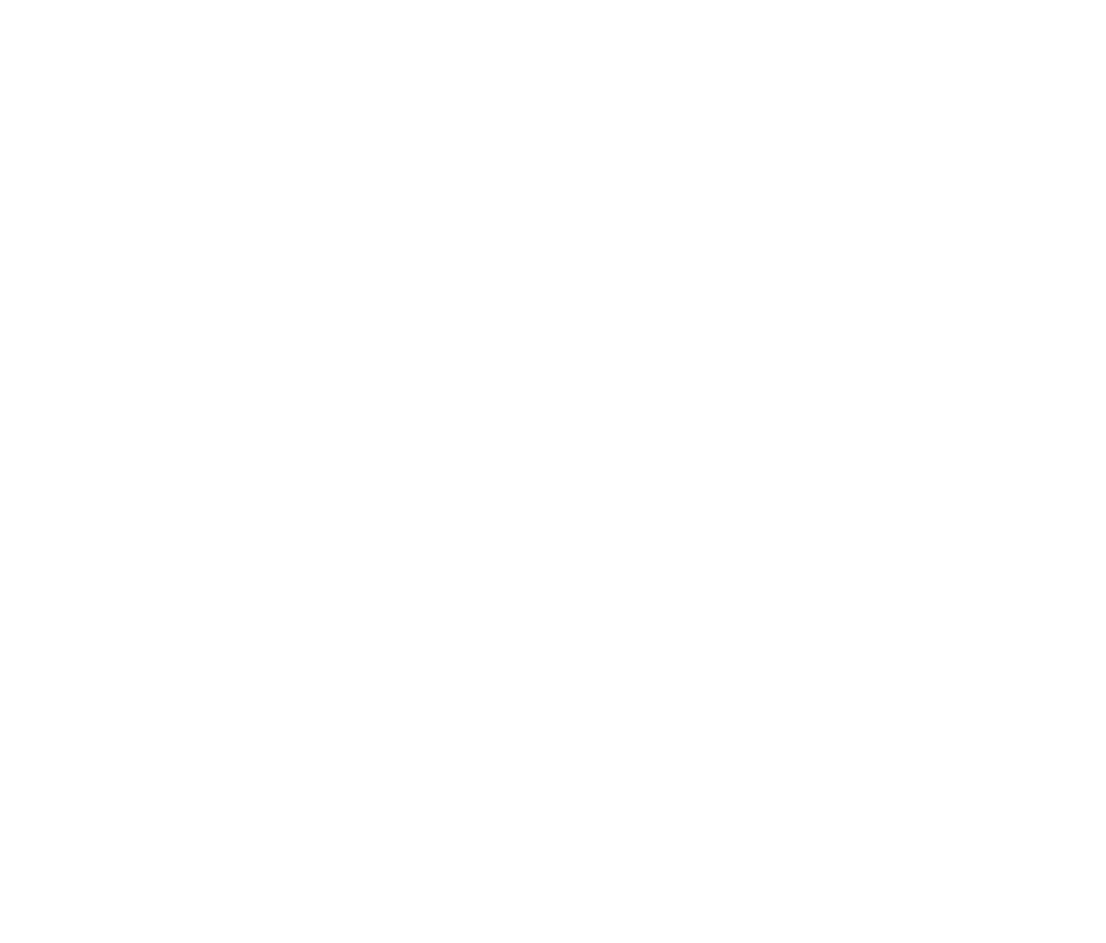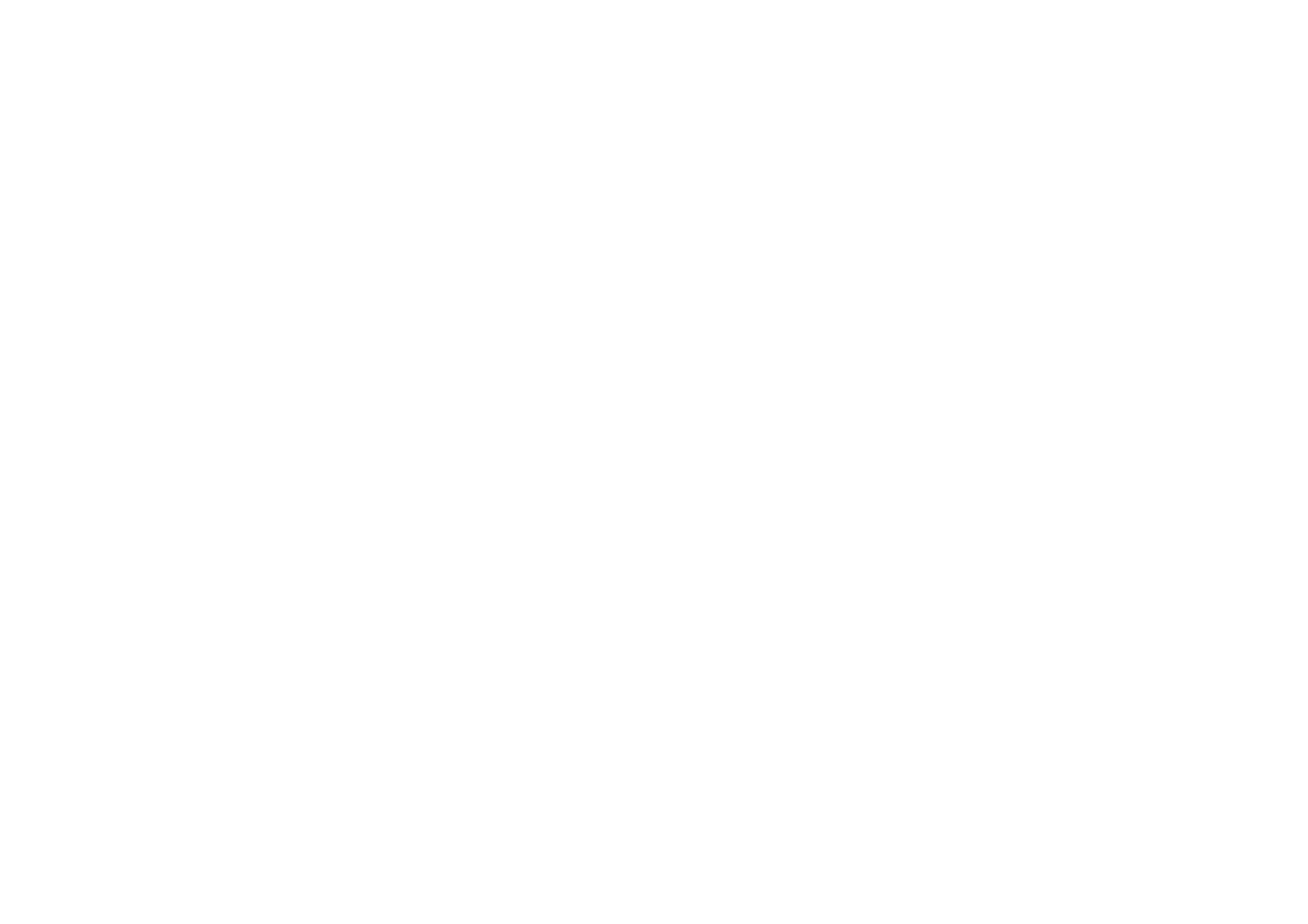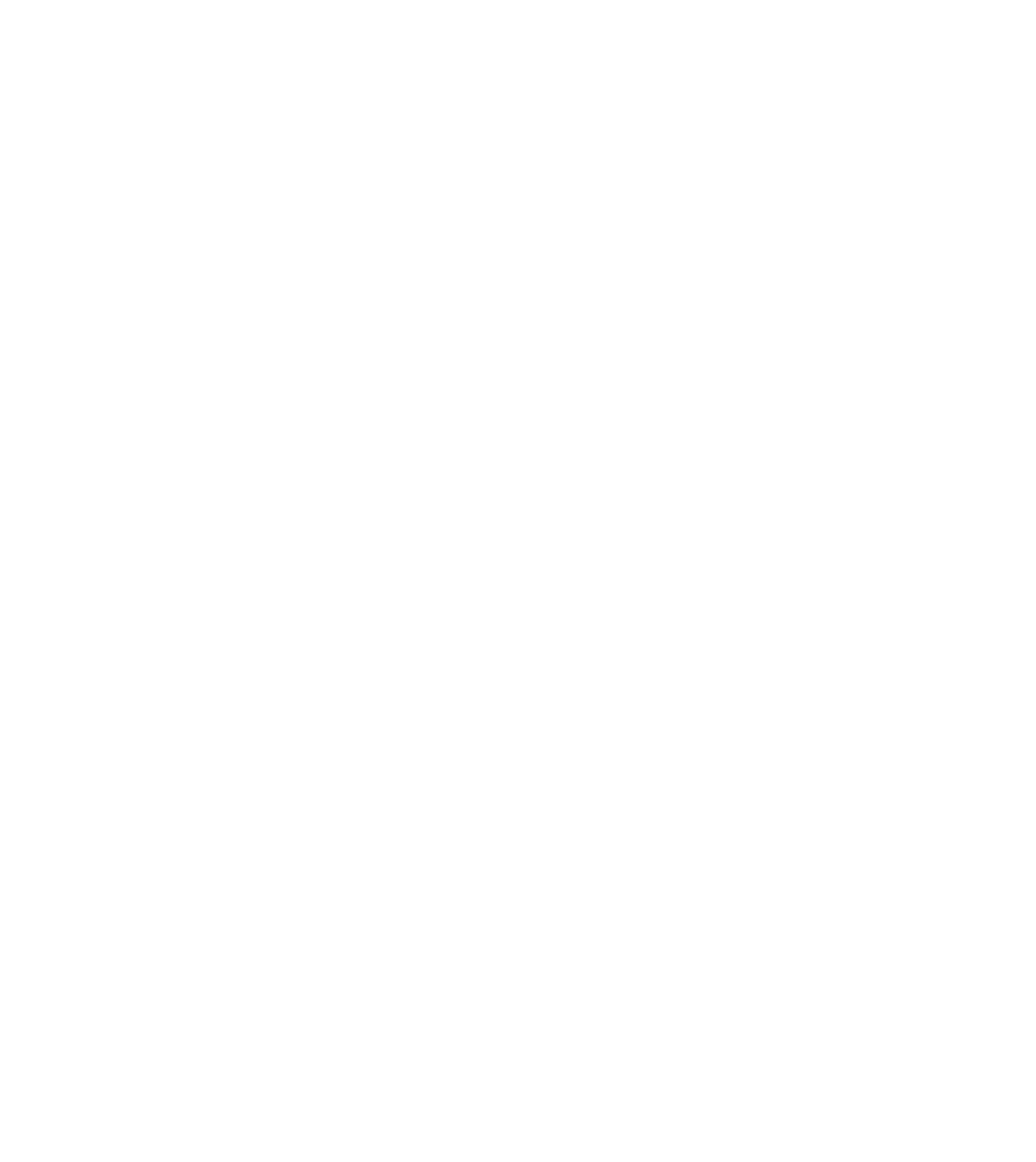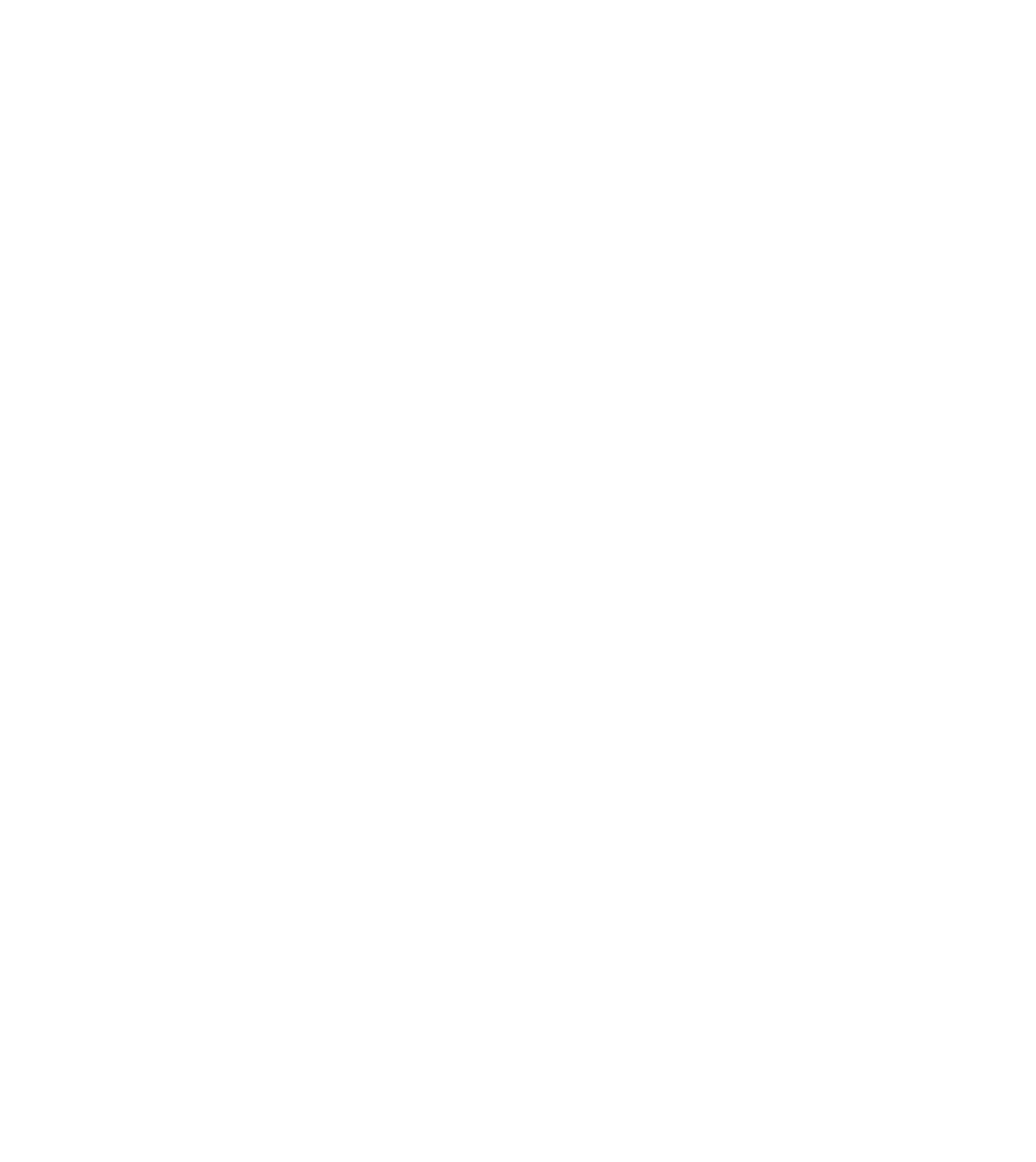Интервью с еленой губановой
«Своей задачей мы считали деликатное перенесение современного искусства на почву, которая была для него не подготовлена»
Беседовала Ангелина Браун
Елена Губанова, российская художница и куратор, стояла во главе Кронштадтской арт-резиденции Северо-Западного филиала ГЦСИ в течение пяти лет — с 2013 по 2018 год. Мы попросили Елену рассказать, с какими сложностями ей как куратору пришлось столкнуться, как велась работа с населением Кронштадта, расспросили о любимых реализованных проектах.
Елена Коловская, директор Северо-Западного филиала ГЦСИ, предложила вам стать куратором в 2013 году. Какой арт-резиденция была в то время?
Елена Фёдоровна, став директором в 2012 году, привела ее в порядок. Резиденция представляла собой небольшой дом, в котором было две комнаты для проживания — два художника могли там работать одновременно. Можно было жить и втроем, такие случаи были, но вдвоем — идеально. На первом этаже находились очень приличная по размеру мастерская, зал и кухня, а на втором — еще одна небольшая мастерская. Вопросы бытового характера были решены, мне же нужно было продумать структуру арт-резиденции, которая отвечала бы международным стандартам.
Арт-резиденция ГЦСИ в Кронштадте
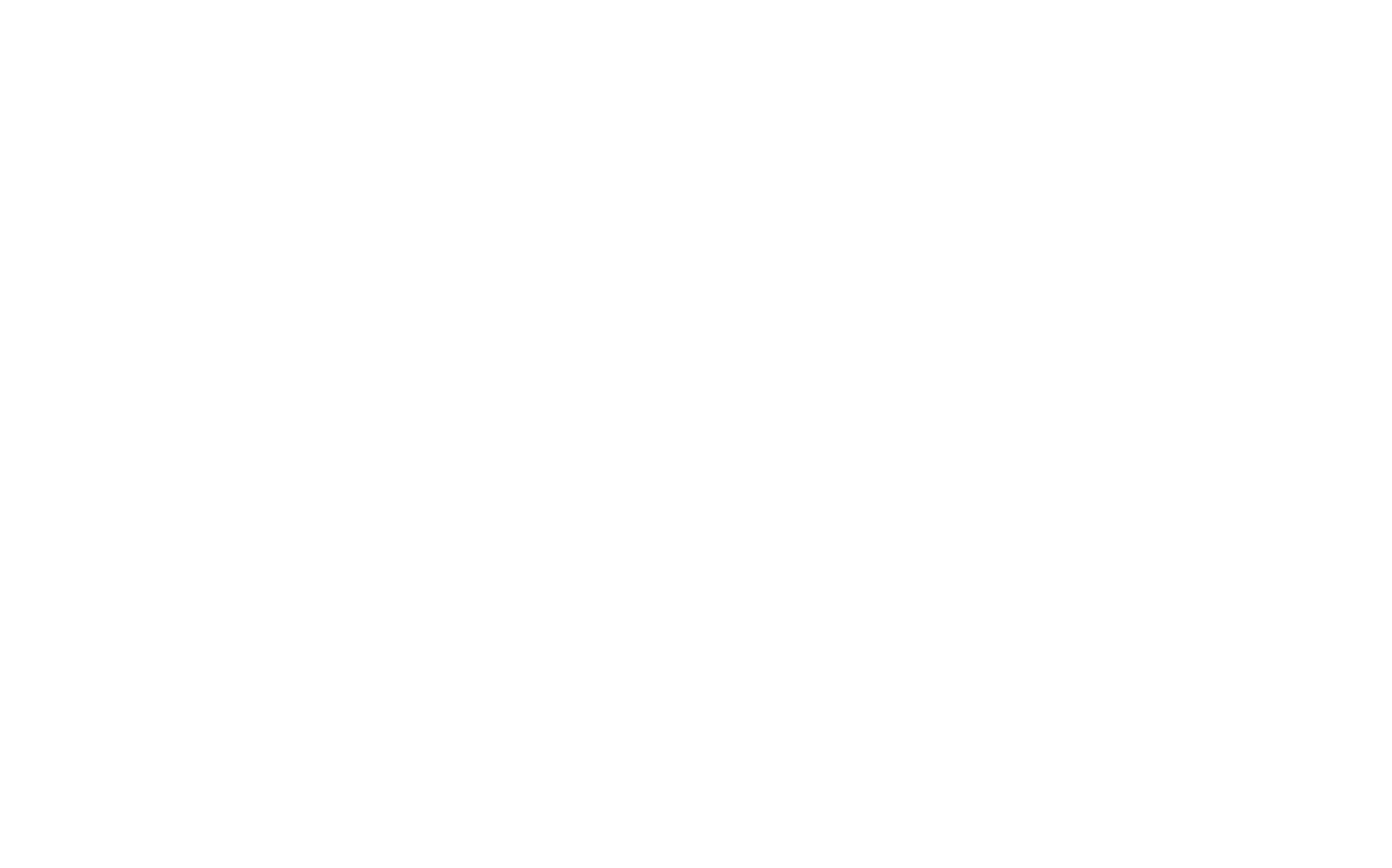
С какими сложностями вы столкнулись, начав курировать программу арт-резиденции? Чем занялись в первую очередь?
В первую очередь я занялась составлением программы на год. В начале осени объявляли open call, затем до середины октября принимали заявки и формировали расписание. Нужно было продумать, кто в какое время приедет, и учесть все пожелания. Многие хотели приехать в весенне-летний период, но в августе, например, резиденция уходила на каникулы.
Основной проблемой было, конечно же, абсолютное отсутствие финансирования: мы не могли оплатить художникам дорогу, не платили суточные, помогали только в оформлении визы. Единственное обещание, которое мы давали и выполняли — это финальная выставка по результатам арт-резиденции в конце года, каталог и бесплатное проживание. Помимо этого, мы предоставляли кураторскую поддержку и знакомили художников с представителями местной арт-сцены.
Приезжавших к нам гостей мы практически ничем не ограничивали, задавали только общую рамку исследования — Кронштадт/Петербург и просили принять участие в мастер-классе или артист-токе: такая относительная свобода всех устраивала.
Несмотря на достаточно скромные условия, мы получали порядка 70 заявок в год со всего мира — мне удалось структурировать систему приглашений. Резидентов манила загадочная Россия, царский Петербург. В какой-то момент мы обзавелись партнерами в Финляндии и Норвегии, стали частью международной программы сотрудничества стран Балтийского региона, давали рекламу на международной онлайн-платформе RESARTIST — количество заявок возросло.
Основной проблемой было, конечно же, абсолютное отсутствие финансирования: мы не могли оплатить художникам дорогу, не платили суточные, помогали только в оформлении визы. Единственное обещание, которое мы давали и выполняли — это финальная выставка по результатам арт-резиденции в конце года, каталог и бесплатное проживание. Помимо этого, мы предоставляли кураторскую поддержку и знакомили художников с представителями местной арт-сцены.
Приезжавших к нам гостей мы практически ничем не ограничивали, задавали только общую рамку исследования — Кронштадт/Петербург и просили принять участие в мастер-классе или артист-токе: такая относительная свобода всех устраивала.
Несмотря на достаточно скромные условия, мы получали порядка 70 заявок в год со всего мира — мне удалось структурировать систему приглашений. Резидентов манила загадочная Россия, царский Петербург. В какой-то момент мы обзавелись партнерами в Финляндии и Норвегии, стали частью международной программы сотрудничества стран Балтийского региона, давали рекламу на международной онлайн-платформе RESARTIST — количество заявок возросло.
Вы переживали за иностранных художников, оказавшихся в Кронштадте? Местность там довольно специфичная…
Переживали, конечно. Часть из них тянулась к фортам, некоторым даже хотелось взаимодействовать с ними напрямую, например, закрасить целиком, чего мы, естественно, позволить не могли. Приходилось охлаждать пыл.
Кронштадт в то время был местом сложным, в некоторой степени даже маргинальным — не то что сейчас. Ты селишь иностранца фактически в другом городе и порой совершенно не знаешь, что с ним происходит, куда он ходит, кто с ним начинает взаимодействовать. Мы рисовали для них карту местности, очерчивая безопасные районы. В резиденции за ними присматривал наш сотрудник, художник Михаил Крест, у которого там тоже была мастерская. Он был проводником. Если ему кто-то особенно нравился, Миша показывал тайные уголки Кронштадта. Было немного спокойнее от мысли, что он всегда рядом с ними.
Кронштадт в то время был местом сложным, в некоторой степени даже маргинальным — не то что сейчас. Ты селишь иностранца фактически в другом городе и порой совершенно не знаешь, что с ним происходит, куда он ходит, кто с ним начинает взаимодействовать. Мы рисовали для них карту местности, очерчивая безопасные районы. В резиденции за ними присматривал наш сотрудник, художник Михаил Крест, у которого там тоже была мастерская. Он был проводником. Если ему кто-то особенно нравился, Миша показывал тайные уголки Кронштадта. Было немного спокойнее от мысли, что он всегда рядом с ними.
Каким образом была выстроена работа в арт-резиденции для художников?
Художники обычно приезжали на месяц. Мы их встречали, помогали разместиться, рассказывали, какие продуктовые магазины есть поблизости, куда можно сходить. Давали им некоторое время, чтобы освоиться, а затем приезжала я, у нас была первая встреча-обсуждение: какой у них план, что нужно для проекта. Дальше я навещала резидентов примерно два раза в неделю, мы вносили необходимые коррективы.
Если проекты требовали нашей помощи в плане организации — с кем-то познакомить, сходить в музей на переговоры, получить разрешение на работу в архивах, — мы с этим помогали. На это отводилось, как правило, две недели. Затем мы вели уже разговор о сроках, обсуждали даты событий в рамках публичной программы проектов.
Поскольку у нас не было своего выставочного пространства, мы часто проводили события у коллег из Фонда «Про Арте». Произведения, созданные во время резиденции, мы, как правило, дарили Музею истории Кронштадта — своего фонда хранения у нас не было. С местным музеем отношения у нас были замечательные: мы проводили там несколько раз публичную презентацию проектов, участвовали в их мероприятиях. Однако годовую отчетную выставку мы проводили в самом центре Петербурга — в Александровском равелине Петропавловской крепости.
Если проекты требовали нашей помощи в плане организации — с кем-то познакомить, сходить в музей на переговоры, получить разрешение на работу в архивах, — мы с этим помогали. На это отводилось, как правило, две недели. Затем мы вели уже разговор о сроках, обсуждали даты событий в рамках публичной программы проектов.
Поскольку у нас не было своего выставочного пространства, мы часто проводили события у коллег из Фонда «Про Арте». Произведения, созданные во время резиденции, мы, как правило, дарили Музею истории Кронштадта — своего фонда хранения у нас не было. С местным музеем отношения у нас были замечательные: мы проводили там несколько раз публичную презентацию проектов, участвовали в их мероприятиях. Однако годовую отчетную выставку мы проводили в самом центре Петербурга — в Александровском равелине Петропавловской крепости.
Велась ли работа с местным населением? Какая у них была реакция?
Работа велась, конечно же, но достаточно аккуратная. Нужно понимать, что Кронштадт в этом плане — место действительно довольно специфичное. У нас было несколько художественных проектов, вовлекающих местных жителей. Один из них сделала Анастасия Кизилова, он назывался Found project. Местные жители приходили к Анастасии и рассказывали о своих нереализованных идеях и мечтах.
Found project — это архив неосуществленных художественных идей, которыми безвозмездно делятся авторы, чтобы другие люди могли их реализовать. Проект существовал в двух формах — виртуальной и материальной. Виртуальный формат — это архив, который появился в 2017 году. Он постоянно пополнялся и на момент 2018 года содержал порядка 40 идей. Все идеи были представлены анонимно, это принципиальное условие проекта. Любой желающий мог прислать свои идеи и выбрать себе идею для реализации. Заявки поступали на e-mail проекта foundproject@mail.ru. Отправитель получал автоматический ответ с доступом к архиву на Google Docs. Материальная часть проекта представляла собой сшитые художницей папки, в которых хранились зарисовки идей и тексты, а также переносную пленэр-станцию с полным описанием всех идей. В рамках резиденции был снят короткометражный документальный фильм, посвященный первой реализованной идее из архива. В фильме показана встреча автора идеи и того, кто воплотил ее в жизнь. Также в галерее «Люда» состоялась выставка с презентацией проекта.
Был замечательный проект «Гудок» Елизаветы Коноваловой. Местные жители были в восторге — им такое взаимодействие пришлось по душе.
Елизавета Коновалова. Гудок, 2013, перформанс, видео.
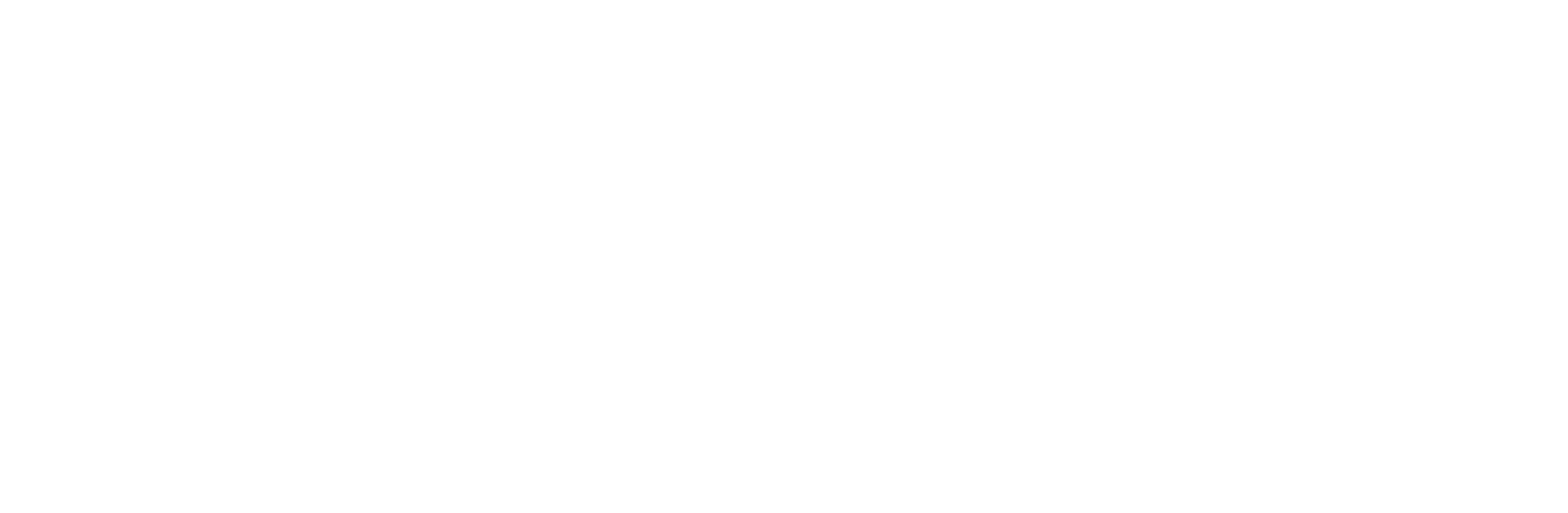
«По приезде в Кронштадт мне захотелось понять, как относятся к резиденции местные жители. Оказалось, что они воспринимают резиденцию в основном как что-то странное, непонятное. Особняк стоит посреди города, как инородное тело, и вызывает скорее недоверие, чем интерес. Я начала думать, как можно художественными средствами найти общий язык с городом.
Мое изучение местности началось с похода на знаменитый Морской завод. После долго перерыва завод, бывшее градообразующее предприятие, снова заработал в 2019 году. А в прошлом году в городе неожиданно зазвучал гудок: в 8, в 12, в 13 и в 17 часов он раздается на весь Кронштадт. Сегодня гудок не имеет прежней функции — нет рабочих часов, нет города, который жил бы по одному расписанию. Тем не менее возрождение этого звука подействовало на население очень позитивно, как знак жизни. Так у меня соединились две ситуации: я подумала, что резиденции нужен гудок.
Я решила, что гудком должен стать звук духового музыкального инструмента. И, разумеется, самого большого — трубы. Инструмент я нашла в кронштадтском Доме культуры. Выяснилось, что труба попала в ДК из оркестра Морского завода. На ней лет 20 никто не играл — труба хранилась в кладовке с тех пор, как расформировали оркестр. Не находя никакого применения инструменту, трубу мне подарили.
В течение двух рабочих недель я с трубой выходила на балкон второго этажа резиденции по заводскому расписанию — по будням в 8, в 12, в 13 и в 17 часов — и играла одну и ту же ноту сразу после заводского гудка, как эхо. Каждый раз я старалась попасть в тон гудка и держала ноту, насколько хватит воздуха".
Мое изучение местности началось с похода на знаменитый Морской завод. После долго перерыва завод, бывшее градообразующее предприятие, снова заработал в 2019 году. А в прошлом году в городе неожиданно зазвучал гудок: в 8, в 12, в 13 и в 17 часов он раздается на весь Кронштадт. Сегодня гудок не имеет прежней функции — нет рабочих часов, нет города, который жил бы по одному расписанию. Тем не менее возрождение этого звука подействовало на население очень позитивно, как знак жизни. Так у меня соединились две ситуации: я подумала, что резиденции нужен гудок.
Я решила, что гудком должен стать звук духового музыкального инструмента. И, разумеется, самого большого — трубы. Инструмент я нашла в кронштадтском Доме культуры. Выяснилось, что труба попала в ДК из оркестра Морского завода. На ней лет 20 никто не играл — труба хранилась в кладовке с тех пор, как расформировали оркестр. Не находя никакого применения инструменту, трубу мне подарили.
В течение двух рабочих недель я с трубой выходила на балкон второго этажа резиденции по заводскому расписанию — по будням в 8, в 12, в 13 и в 17 часов — и играла одну и ту же ноту сразу после заводского гудка, как эхо. Каждый раз я старалась попасть в тон гудка и держала ноту, насколько хватит воздуха".
Кроме того, все вернисажи наших проектов и встречи с художниками были открытыми — мы всегда размещали анонсы в газете «Кронштадтский вестник». Дружили с местными институциями — художественной школой, музеями и театром. Даже принимали участие в Дне города, организовали фестиваль, в рамках которого показывали зарубежные мультфильмы в Центральном парке. Елена Фдоровна Коловская организовывала экскурсии с выдающимися искусствоведами в Русский музей для кронштадских школьников.
Своей задачей мы считали деликатное перенесение современного искусства на почву, которая была для него не подготовлена.
Для нас было важно сохранить арт-резиденцию, мы всячески старались избегать конфликтов. Это в некоторой степени ограничивало нашу свободу, потому что мы отсекали проекты радикального характера. Но в приоритете всегда оставалось сохранение толерантности между художниками и местными жителями.
Своей задачей мы считали деликатное перенесение современного искусства на почву, которая была для него не подготовлена.
Для нас было важно сохранить арт-резиденцию, мы всячески старались избегать конфликтов. Это в некоторой степени ограничивало нашу свободу, потому что мы отсекали проекты радикального характера. Но в приоритете всегда оставалось сохранение толерантности между художниками и местными жителями.
Работали ли вы с художниками, пребывавшими в арт-резиденции в Кронштадте, по ее окончании?
Да, я многих художников тепло вспоминаю. Некоторых я приглашала на другие проекты. В частности, к участию в ежегодном международном фестивале мультимедийного искусства Киберфест, который я курирую по сей день. Например, для итальянского художника Александра Шарафа (он сейчас сделал персональную выставку в рамках параллельной программы Венецианской биеннале), который делал в резиденции проект о времени, я организовала съемку в Эрмитаже в знаменитом зале с часами «Павлин». Нужно было заснять кульминационное движение часового механизма внутри самих легендарных часов, это было непросто. После резиденции он успел съездить в Мурманск и снять проект о северном сиянии, который я позже показала в Молодежном образовательном центре Государственного Эрмитажа в рамках Киберфеста-2017.
Проект «Помыслить немыслимое» Донато Пикколо из Италии я взяла на Киберфест в 2018 году. Художник включил в него графические листы, сделанные в резиденции в Кронштадте.
Художников Анастасию Кизилову и Максима Шера, резидентов Кронштадта, куратор Людмила Белова пригласила к участию в выставке «Тихие голоса», организованной Северо-Западным филиалом Государственного центра современного искусства в Петропавловской крепости в Петербурге, а в дальнейшем — в Красноярском музее современного искусства.
Проект «Помыслить немыслимое» Донато Пикколо из Италии я взяла на Киберфест в 2018 году. Художник включил в него графические листы, сделанные в резиденции в Кронштадте.
Художников Анастасию Кизилову и Максима Шера, резидентов Кронштадта, куратор Людмила Белова пригласила к участию в выставке «Тихие голоса», организованной Северо-Западным филиалом Государственного центра современного искусства в Петропавловской крепости в Петербурге, а в дальнейшем — в Красноярском музее современного искусства.
Тихие голоса. Выставочный проект-исследование, 2017
Назовите три любимых проекта, которые были реализованы в арт-резиденции?
Это сложный вопрос. Три не смогу, пусть это будут пять проектов: Vis-a-Vis и «Собор» Аньи Марэ, «Сновидения форта» Карлы Ребелу, «Радио неизвестных» Ильи Пилипенко, «Как оно есть» Карла Ларссона и «Мечтая о фата-моргане» Тани Дыхин.
В чем уникальность и прелесть арт-резиденции в Кронштадте?
Арт-резиденция была скромной, без пафоса, без мишуры. Резиденты не были мировыми звездами — это были средние художники среднего звена, которых по всему миру достаточно много, но их работы позволяли местной публике и местным художникам увидеть, на каком уровне сейчас находится искусство в мире, увидеть некий срез процесса создания искусства.
Есть художники, которые воспринимают участие в резиденциях как возможность путешествовать и посмотреть мир: они перемещаются из одной резиденцию в другую и таким образом проводят время. За все годы существования арт-резиденции у нас таких не было. Художники приезжали с уже готовыми идеями для проектов, реализовывали их здесь, проекты раскрывали Кронштадт с разных, порой неожиданных сторон. Кто-то работал с архивами, кто-то представлял собственное прочтение места, кто-то создавал проекты с иммерсивной составляющей.
Манера, в которой создавались проекты зарубежными авторами, во многом обогатила и наших художников, позволила им перенять опыт. В Петербурге, в отличие от других городов, в том числе открытой и контактной Москвы, художественные объединения существовали автономно и жили своей жизнью — город был, да и до сих пор остается, герметичным.
Когда мы открывали open call, в условиях обязательно прописывали, что итоговый проект так или иначе должен быть связан с местным контекстом. Мне кажется, хорошо, что резиденция была не в Петербурге, а именно в здесь, в Кронштадте: в Петербурге она бы растворилась, там слишком большой разброс в темах, возможностях, слишком много соблазнов отвлечься. У нас они были в прямом и переносном смысле на острове, оставались большую часть времени наедине с собой и своей работой, это обстоятельство позволило создать некоторым из них исследовательские и по уровню вполне музейные арт-проекты, проникнутые доброжелательностью и искренней заинтересованностью в нашей жизни, истории, культуре.
За пять лет моей работы, с 2013 по 2018 год, в резиденции успели поработать 99 художников из России и 31 страны.
Есть художники, которые воспринимают участие в резиденциях как возможность путешествовать и посмотреть мир: они перемещаются из одной резиденцию в другую и таким образом проводят время. За все годы существования арт-резиденции у нас таких не было. Художники приезжали с уже готовыми идеями для проектов, реализовывали их здесь, проекты раскрывали Кронштадт с разных, порой неожиданных сторон. Кто-то работал с архивами, кто-то представлял собственное прочтение места, кто-то создавал проекты с иммерсивной составляющей.
Манера, в которой создавались проекты зарубежными авторами, во многом обогатила и наших художников, позволила им перенять опыт. В Петербурге, в отличие от других городов, в том числе открытой и контактной Москвы, художественные объединения существовали автономно и жили своей жизнью — город был, да и до сих пор остается, герметичным.
Когда мы открывали open call, в условиях обязательно прописывали, что итоговый проект так или иначе должен быть связан с местным контекстом. Мне кажется, хорошо, что резиденция была не в Петербурге, а именно в здесь, в Кронштадте: в Петербурге она бы растворилась, там слишком большой разброс в темах, возможностях, слишком много соблазнов отвлечься. У нас они были в прямом и переносном смысле на острове, оставались большую часть времени наедине с собой и своей работой, это обстоятельство позволило создать некоторым из них исследовательские и по уровню вполне музейные арт-проекты, проникнутые доброжелательностью и искренней заинтересованностью в нашей жизни, истории, культуре.
За пять лет моей работы, с 2013 по 2018 год, в резиденции успели поработать 99 художников из России и 31 страны.
- Елена ГубановаРоссийская художница, главный куратор лаборатории медиаискусства «CYLAND». В 1986 году окончила факультет живописи Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. С 1990 года работает вместе с художником Говорковым Иваном. Курировала выставки Северо‑западного филиала ГЦСИ, преподавала в Университете ИТМО и «Школе молодого художника» фонда «ПРО АРТЕ». Лауреат премии им. Сергея Курёхина (2012, 2018). Живёт и работает в Санкт‑Петербурге.
- про резиденциюпартнёрство благотворительных организаций, с 1996 года работающих ради улучшения жизни детей и взрослых с тяжелой инвалидностью«Перспективы» поддерживают детей с ТМНР в четвертом корпусе Детского дома-интерната № 4, семьи, в которых растут такие дети, организуют занятость и сопровождение людям старше 18 лет в Психоневрологическом интернате № 3 в Петергофе, а также развивают программы сопровождаемого проживания.
perspektivy.ru